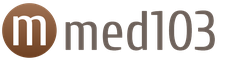Добрый человек из сезуана. Добрый человек из сычуани Добрый человек из сезуана
16 мая 2018, 10:17Сделала пост из кусочков, отрывков из книг и статей. Когда вы сложите пазлы текста и видео, надеюсь, что почувствуете атмосферу театра, вернее одного очень интересного спектакля, именно это я хотела выразить в своём посте:
При жизни Брехта его отношения с советским театром складывались, мягко говоря, не особенно удачно. Основными причинами были идеологическое неприятие официальным театром брехтовских художественных поисков, а также парадоксальность фигуры Брехта, изрядно раздражавшего власти. Взаимное неприязнь была обоюдной. С одной стороны, в 1920–1950-е годы пьес Брехта отечественные театры почти не ставили, С другой, знакомство самого немецкого драматурга с советской театральной практикой не раз повергало его в уныние.
Брехт оказался в советском меловом круге. Лишь на рубеже 1950– 1960-х годов, уже после его смерти, появляются редкие постановки его пьес. Среди первых и наиболее значительных следует упомянуть: “Сны Симоны Машар” в Московском театре им. М. Ермоловой в постановке Анатолия Эфроса (1959); “Мамаша Кураж и ее дети” в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского (постановка Максима Штрауха) (1960); “Добрый человек из Сезуана” в Ленинградском академическом театре им. Пушкина (1962, режиссер – Рафаил Суслович); “Карьера Артуро Уи” в Ленинград- ском Большом драматическом театре им. Горького (1963, режиссер – Эрвин Аксер).
Однако эти и некоторые другие оттепельные постановки Брехта меркнут перед значением одного учебного студенческого спектакля. В 1963 г. юные вахтанговцы, студенты третьего (!) курса Театрального училища имени Б.В. Щукина, представили плод своей шестимесячной работы – спектакль “Добрый человек из Сезуана” в постановке педагога курса Юрия Любимова.

Успех его был ошеломляющим. В последний год оттепели, в небольшом зале щукинского училища на Старом Арбате (позже его играли и на других сценических площадках Москвы) спектакль посмотрели И. Эренбург, К. Симонов, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Б. Ахмадулина, В. Аксенов, Ю. Трифонов, А. Галич, О. Ефремов, М. Плисецкая, Р. Щедрин... Казалось бы, очеред- ная студенческая постановка была воспринята московской публикой не только как театральный прорыв, но и как своеобразный общественный манифест, знамя сулившего перемены времени. Весьма симптоматично, что через год, 23 апреля 1964 г., любимовский “Добрый человек из Сезуана” откроет новый театр – Театр на Таганке, в котором он идет и по сей день.
(Отрывок из статьи о творчестве Брехта.)
Москва - удивительный город - там все все узнают по слухам. Разнесся слух, что готовится какой-то интересный спектакль. А так как всем скучно, и дипломатам тоже, раз что-то интересное, значит, будет скандал. Как говорил покойный мой друг Эрдман, что «если вокруг театра нет скандала, то это не театр». Значит, в этом смысле он был пророком в отношении меня. Так и было. Ну и скучно, и все хотят приехать, посмотреть, и знают, что если это интересно, то это закроют. Поэтому спектакль долго не могли начать, публика ворвалась в зал. Эти дипломаты сели на пол в проходе, вбежал пожарник, бледный директор, ректор училища, сказал, что «он не разрешит, потому что зал может обвалиться». В зале, где мест на двести сорок человек, сидит около четырехсот - в общем, был полный скандал. Я стоял с фонарем - там очень плохая была электрика, и я сам стоял и водил фонарем. В нужных местах высвечивал портрет Брехта. И я этим фонарем все водил и кричал:
Ради Бога, дайте продолжить спектакль, что вы делаете, ведь закроют спектакль, никто его не увидит! Чего вы топаете, неужели вы не понимаете, где вы живете, идиоты!
И все-таки я их утихомирил. Но, конечно, все записали и донесли. Ну, и закрыли после этого.
Отрывок из книги Юрия Любимова "Рассказы старого трепача"

"Добрый человек из Сычуани" Бертольт Брехт (нем. Der gute Mensch von Sezuan) · 1940
Краткое содержание пьесы (для тех, кто совсем не в курсе о чем речь)))
Главный город провинции Сычуань, в котором обобщены все места на земном шаре и любое время, в которое человек эксплуатирует человека, - вот место и время действия пьесы.
Пролог. Вот уже два тысячелетия не прекращается вопль: так дальше продолжаться не может! Никто в этом мире не в состоянии быть добрым! И обеспокоенные боги постановили: мир может оставаться таким, как есть, если найдётся достаточно людей, способных жить достойной человека жизнью. А чтобы проверить это, три виднейших бога спускаются на землю. Быть может, водонос Ван, первым встретивший их и угостивший водой (он, кстати, единственный в Сычуани, кто знает, что они боги), достойный человек? Но его кружка, заметили боги, с двойным дном. Добрый водонос - мошенник! Простейшая проверка первой добродетели - гостеприимства - расстраивает их: ни в одном из богатых домов: ни у господина Фо, ни у господина Чена, ни у вдовы Су - не может Ван найти для них ночлег. Остаётся одно: обратиться к проститутке Шен Де, она ведь не может отказать никому. И боги проводят ночь у единственного доброго человека, а наутро, распрощавшись, оставляют Шен Де наказ оставаться такой же доброй, а также хорошую плату за ночлег: ведь как быть доброй, когда все так дорого!
I. Боги оставили Шен Де тысячу серебряных долларов, и она купила себе на них маленькую табачную лавку. Но сколько нуждающихся в помощи оказывается рядом с тем, кому улыбнулась удача: бывшая владелица лавки и прежние хозяева Шен Де - муж и жена, её хромой брат и беременная невестка, племянник и племянница, старик дедушка и мальчик, - и всем нужна крыша над головой и еда. «Спасенья маленькая лодка / Тотчас же идёт на дно. / Ведь слишком много тонущих / Схватились жадно за борта».
А тут столяр требует сто серебряных долларов, которые не заплатила ему прежняя хозяйка за полки, а домовладелице нужны рекомендации и поручительство за не слишком респектабельную Шен Де. «За меня поручится двоюродный брат, - говорит она. - И за полки расплатится он же».
II. И наутро в табачной лавке появляется Шой Да, двоюродный брат Шен Де. Решительно прогнав незадачливых родственников, умело вынудив столяра взять всего двадцать серебряных долларов, Предусмотрительно подружившись с полицейским, он улаживает дела своей слишком доброй кузины.
III. А вечером в городском парке Шен Де встречает безработного лётчика Суна. Лётчик без самолёта, почтовый лётчик без почты. Что ему делать на свете, даже если он прочёл в пекинской школе все книги о полётах, даже если он умеет посадить на землю самолёт, точно это его собственный зад? Он как журавль со сломанным крылом, и нечего ему делать на земле. Верёвка наготове, а деревьев в парке сколько угодно. Но Шен Де не даёт ему повеситься. Жить без надежды - творить зло. Безнадёжна Песня водоноса, продающего воду во время дождя: «Гром гремит, и дождик льётся, / Ну, а я водой торгую, / А вода не продаётся / И не пьётся ни в какую. / Я кричу: „Воды купите!“ / Но никто не покупает. / В мой карман за эту воду / Ничего не попадает! / Купите воды, собаки!»
И Шен Де покупает кружку воды для своего любимого Ян Суна.

Владимир Высоцкий и Зинаида Славина в спектакле «Добрый человек из Сезуана». 1978 год
IV. Возвращаясь после ночи, проведённой с любимым, Шен Де впервые видит утренний город, бодрый и дарящий веселье. Люди сегодня добры. Старики, торговцы коврами из лавки напротив, дают милой Шен Де в долг двести серебряных долларов - будет чем расплатиться с домовладелицей за полгода. Человеку, который любит и надеется, ничто не трудно. И когда мать Суна госпожа Ян рассказывает, что за огромную сумму в пятьсот серебряных долларов сыну пообещали место, она с радостью отдаёт ей деньги полученные от стариков. Но откуда взять ещё триста? Есть лишь один выход - обратиться к Шой Да. Да, он слишком жесток и хитёр. Но ведь лётчик должен летать!
Интермедии. Шен Де входит, держа в руках маску и костюм Шой Да, и поёт «Песню о беспомощности богов и добрых людей»: «Добрые у нас в стране / Добрыми не могут оставаться. / Чтобы добраться с ложкою до чашки, / Нужна жестокость. / Добрые беспомощны, а боги бессильны. / Почему не заявляют боги там, в эфире, / Что время дать всем добрым и хорошим / Возможность жить в хорошем, добром мире?»
V. Умный и осмотрительный Шой Да, глаза которого не слепит любовь, видит обман. Ян Суна не пугают жестокость и подлость: пусть обещанное ему место - чужое, и у лётчика, которого уволят с него, большая семья, пусть Шен Де расстанется с лавкой, кроме которой у неё ничего нет, а старики лишатся своих двухсот долларов и потеряют жилье, - лишь бы добиться своего. Такому нельзя доверять, и Шой Да ищет опору в богатом цирюльнике, готовом жениться на Шен Де. Но разум бессилен, где действует любовь, и Шен Де уходит с Суном: «Я хочу уйти с тем, кого люблю, / Я не хочу обдумывать, хорошо ли это. / Я не хочу знать, любит ли он меня. / Я хочу уйти с тем, кого люблю».
VI. В маленьком дешёвом ресторане в предместье готовятся к свадьбе Ян Суна и Шен Де. Невеста в подвенечном наряде, жених в смокинге. Но церемония все никак не начнётся, и бонза посматривает на часы - жених и его мать ждут Шой Да, который должен принести триста серебряных долларов. Ян Сун поёт «Песню о дне святого Никогда»: «В этот день берут за глотку зло, / В этот день всем бедным повезло, / И хозяин и батрак / Вместе шествуют в кабак / В день святого Никогда / Тощий пьёт у жирного в гостях. / Мы уже не в силах больше ждать. / Потому-то и должны нам дать, / Людям тяжкого труда, / День святого Никогда, / День святого Никогда, / День, когда мы будем отдыхать».
«Он уже никогда не придёт», - говорит госпожа Ян. Трое сидят, и двое из них смотрят на дверь.
VII. На тележке около табачной лавки скудный скарб Шен Де - лавку пришлось продать, чтобы вернуть долг старикам. Цирюльник Шу Фу готов помочь: он отдаст свои бараки для бедняков, которым помогает Шен Де (там все равно нельзя держать товар - слишком сыро), и выпишет чек. А Шен Де счастлива: она почувствовала в себе будущего сына - лётчика, «нового завоевателя / Недоступных гор и неведомых областей!» Но как уберечь его от жестокости этого мира? Она видит маленького сына столяра, который ищет еду в помойном ведре, и клянётся, что не успокоится, пока не спасёт своего сына, хотя бы его одного. Настало время вновь превратиться в двоюродного брата.
Господин Шой Да объявляет собравшимся, что его кузина и впредь не оставит их без помощи, но отныне раздача пищи без ответных услуг прекращается, а в домах господина Шу Фу будет жить тот, кто согласен работать на Шен Де.
VIII. На табачной фабрике, которую Шой Да устроил в бараках, работают мужчины, женщины и дети. Надсмотрщиком - и жестоким - здесь Ян Сун: он ничуть не печалится из-за перемены участи и показывает, что готов на все ради интересов фирмы. Но где Шен Де? Где добрый человек? Где та, кто много месяцев назад в дождливый день в минуту радости купила кружку воды у водоноса? Где она и её будущий ребёнок, о котором она рассказала водоносу? И Сун тоже хотел бы знать это: если его бывшая невеста была беременна, то он, как отец ребёнка, может претендовать и на положение хозяина. А вот, кстати, в узле её платье. уж не убил ли несчастную женщину жестокий двоюродный брат? Полиция приходит в дом. Господину Шой Да предстоит предстать перед судом.
X. В зале суда друзья Шен Де (водонос Ван, чета стариков, дедушка и племянница) и партнёры Шой Да (господин Шу Фу и домовладелица) ждут начала заседания. При виде судей, вошедших в зал, Шой Да падает в обморок - это боги. Боги отнюдь не всеведущи: под маской и костюмом Шой Да они не узнают Шен Де. И лишь когда, не выдержав обвинений добрых и заступничества злых, Шой Да снимает маску и срывает одежду, боги с ужасом видят, что миссия их провалилась: их добрый человек и злой и чёрствый Шой Да - одно лицо. Не получается в этом мире быть доброй к другим и одновременно к себе, не выходит других спасать и себя не погубить, нельзя всех осчастливить и себя со всеми вместе! Но богам некогда разбираться в таких сложностях. Неужели отказаться от заповедей? Нет, никогда! Признать, что мир должен быть изменён? Как? Кем? Нет, все в порядке. И они успокаивают людей: «Шен Де не погибла, она была только спрятана. Среди вас остаётся добрый человек». И на отчаянный вопль Шен Де: «Но мне нужен двоюродный брат» - торопливо отвечают: «Только не слишком часто!» И между тем как Шен Де в отчаянии простирает к ним руки, они, улыбаясь и кивая, исчезают вверху.
Эпилог. Заключительный монолог актёра перед публикой: «О публика почтенная моя! Конец неважный. Это знаю я. / В руках у нас прекраснейшая сказка вдруг получила горькую развязку. / Опущен занавес, а мы стоим в смущенье - не обрели вопросы разрешенья. / Так в чем же дело? Мы ж не ищем выгод, / И значит, должен быть какой-то верный выход? / За деньги не придумаешь - какой! Другой герой? А если мир - другой? / А может, здесь нужны другие боги? Иль вовсе без богов? Молчу в тревоге. / Так помогите нам! Беду поправьте - и мысль и разум свой сюда направьте. / Попробуйте для доброго найти к хорошему - хорошие пути. / Плохой конец - заранее отброшен. / Он должен, должен, должен быть хорошим!»
Пересказала Т. А. Вознесенская.
ИЗ ИСТОРИИ СПЕКТАКЛЯ
Премьера: 23 апреля 1964 г.
Пьеса-притча в 2-х действиях
режиссёр Юрий Любимов
С «Доброго человека…» все было неположено
Рассказы старого трепачаКогда студенты спели «Зонг о баранах»:
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,
и второй зонг особенно:
Власти ходят по дороге…
Труп какой-то на дороге.
«Э! Да это ведь народ!»
Эти два зонга я смонтировал, у Брехта они разные. Публика стала топать ногами и орать: «Пов-то-рить! Пов-то-рить! Пов-то-рить!» - и так минут пять, я думал, училище развалится.
Я перепугал всех и первым я перепугал Юзовского - он был одним из переводчиков «Доброго человека…». В свое время он был проработан сильно - как космополит: выгнан с работы … И очень образно об этом рассказывал: «Первым умер телефон», - никто не звонил.
И тут он так испугался, что прижал меня в угол, весь бледный, трясется: «Вы ничего не понимаете, вы безумный человек, вы знаете, что с вами сделают - вы даже не представляете! Если вы не уберете эти зонги, то хоть снимите мое имя с афиши, чтобы не было видно, что это мой перевод!…» На меня это произвело очень сильное впечатление: человек старше меня, очень уважаемый - и такой страх. Так же был напуган властями и Шостакович - смертельно их боялся.
А Захава был просто предельно расстроен. Он испугался, что это антисоветчина, что сейчас закроют училище. И ему не понравилось… Хотя странно. Bедь до этого кафедре я показывал отрывок на сорок минут, и кафедра хлопала, что бывает не так часто. Значит, что-то они почувствовали. Но когда я показал все, то реакция была - закрыть спектакль.
Потом начались проработки внутри училища и решили: «закрыть спектакль как антинародный, формалистический» - за подписью Захавы. Но, слава Богу, появилась хорошая рецензия в «Неделе» - и я ждал, когда она выйдет. Захава позвонил в газету и сказал, что училище этот спектакль не принимает и что рецензию надо убрать. Но он позвонил поздно, уже печать шла. А в это время началось долгое заседание по проработке, меня вызвали.
Но меня предупредили, что идет уже печать, и сказали:
Ты можешь потянуть время?
Я говорю:
Как я могу потянуть?
Ну, пока печатают. Подольше там разбирайте все это дело.
По-моему, там работала Нателла Лордкипанидзе. Потом был перерыв покурить, и мне принесли номер газеты горяченький. И, когда началось заседание, я стал читать. Меня одернули: «вас прорабатывают, а вы что-то читаете».
Извините, - и пустил «Неделю» по рукам прорабатывающих. Тогда опять стали говорить:
Теперь вы читаете, надо же прорабатывать, а не читать.
Короче говоря, газета пришла к Захаве, по кругу. Он говорит:
Что вы там все читаете? Что там? И кто-то говорит:
Да вот тут его хвалят, говорят, что это интересно, замечательно. Получается, что мы не правы в проработке…
Это была комната, где собиралось партийное бюро в училище, класс какой-то. Там присутствовало человек пятнадцать-двадцать. Но они, бедные, пришли потому, что им нельзя было отказываться. Даже кто-то из театра был. Там были высшие чины: и Толчанов, и Захава, и Цецилия (Мансурова). Захава был против, Толчанов поддержал Захаву:
Мы это проходили.
А я сказал:
Вот именно! Вы и прошли мимо, поэтому и застряли в болоте своего реализма.
Да это никакой не реализм, а просто мартышкин труд.
Ведь получилось так, что спектакль был показан на публике, как это принято, а Москва есть Москва - откуда узнали, непонятно, но, как всегда бывает, - не удержишь. Сломали двери, сидели на полу. Набилось в этот небольшой зал в Щукинском училище в два раза больше людей, чем было мест, и боялись, что училище рухнет.
Я помню, первый раз я поразился, когда они нас всех созвали - еще был Рубен Николаевич, - чтобы закрывать «Современник». И все «Голого короля» разбирали: кто голый король, а кто премьер - это при Хрущеве было. И до того доразбирались, что закрыли заседание, потому что не могли понять - если Хрущев голый король, то кто же тогда премьер-министр? Значит, Брежнев? Ассоциативная галиматья довела их до того, что они испугались и прикрыли это заседание, судилище «Современника». Но хотели они закрывать театр нашими руками, чтобы мы осудили.
И у меня было то же самое - первая-то проработка была на кафедре. Мои коллеги не хотели выпускать «Доброго человека …» и не хотели засчитывать это студентам как дипломный спектакль. И только потом появилась пресса благоприятная, и на спектакль позвали рабочих заводов «Станколит», «Борец», интеллигенцию, ученых, музыкантов - и они меня очень поддержали. Рассчитывали именно руками рабочих меня задушить, а им понравился «Добрый человек…», там много было песен-зонгов, ребята очень хорошо их исполняли, рабочие хлопали и поздравляли тех, кто хотел закрыть спектакль, говорили: «Спасибо, очень хороший спектакль!» - и те как-то сникли. А в это время появилась в «Правде» хорошая заметка Константина Симонова.
Вот. Ну и отбивался я очень сильно. Так что у кого какая судьба. А у меня судьба такая: все время я отбивался.
И все-таки я считаю, что тогда Брехт по-настоящему до конца не был сделан, потому что студенты не осознавали, то есть просто делали, как я сказал. Ведь этот спектакль вколачивался мной костылем, потому что у меня были порваны связки. И потом, были бандиты у меня на курсе, в буквальном смысле, которые на меня доносы писали - уж если говорить правду - что я их обучаю не по системе Станиславского. Потому что я ритм вколачивал костылем - я порвал связки и ходил с ним.
Строили новый Арбат. Меня толкнул самосвал, и я скатился в рытвину и порвал себе связки на ноге. И поэтому ходил на костылях, чтоб дорепетировать. И каждый раз думал: «Да пошли они … плюну, и не буду больше в это Училище поганое ходить!» Вот правда. Вот это правда. Остальное все приукрашено сильно.
До этого я как педагог ставил маленькие отрывки с разными студентами. С Андреем Мироновым я ставил «Швейка» - Лукаша-поручика, где он пьяный, его со Швейком дебаты. У меня и тогда была теория: нужно обязательно сделать отрывок студенту - минут на пятнадцать - чтобы он мог показываться, чтобы его приняли на работу. Поэтому надо сделать весело и интересно.
И это было легендой училища - его приняли во все театры с этим отрывком, кроме Вахтанговского. Я даже удивился, Рубену Николаевичу говорю:
Почему же, Рубен Николаевич, вы его не приняли? - но он как-то так уклончиво ответил.
Так же как я делал отрывок из Чехова с Волковым, с Охлупиным - знаменитые теперь артисты. Почему я помню, потому что и тут меня тоже стали прорабатывать на кафедре, что Чехова так нельзя ставить. Я ставил рассказ о докторе, который приезжает к больному - одни капризы видит, - а у него дома умирает ребенок.
Я там даже один акт «Дней Турбинных» делал. Я сделал отрывка два-три из «Страха и смятения. ..». После «Доброго человека…» я больше не преподавал.
Я прочел в журнале перевод Юзовского и Ионовой. И мне это показалось очень интересным, трудным и странным, потому что мало знал о Брехте. Просто мало знал.
Для Москвы это была необычная драматургия. Брехт ставился очень мало, и Москва плохо знала его. Я не видел «Берлинер ансамбля» и был совершенно свободен от влияния. Значит, делал его интуитивно, свободно, без давления традиций Брехта. Я почитал, конечно, о нем, его произведения, его всякие наставления. Но все равно, хорошо, что я не видел ни одного спектакля. Я видел потом и «Артура Уи», и «Галилея», и «Кориолана», «Мать» по-брехтовски, потом, «Покупка меди» - это такой дискуссионный спектакль. Очень интересно. Я даже хотел это ставить.
И потому что я не видел ничего Брехта, я был чист и получился такой русский вариант Брехта. Спектакль был таким, как мне подсказывала моя интуиция и мое чутье. Я был свободен, я никому не подражал. Я считаю, что все-таки я им принес новую драматургию в училище: я имею в виду Брехта. Потому что мне казалось, что само построение брехтовской драматургии, принципы его театра - безусловно театра политического, как-то заставят студентов больше увидеть окружающий мир и найти себя в нем, и найти свое отношение к тому, что они видят. Потому что без этого нельзя сыграть Брехта. Потом, я все-таки сумел поломать канон в том смысле, что обычно диплом сдастся на четвертом курсе, а я убедил разрешить моим студентам сдать диплом на третьем курсе. Это было очень тpyдно cдeлать, мне понадобилось убедить кафедру. Они разрешили мне показать фрагмент на тридцать-сорок минут, и если их этот фрагмент удовлетворит, то они разрешат мне сделать диплом.
А сейчас это совершенно спокойно дают даже моим ученикам, уже Сабинин ставит один за одним дипломные спектакли, и все они профессора, доценты. А я был каким-то рядовым педагогом, получал рубль в час Обучать в шоферы брали - я думал даже зарабатывать, обучая, - три рубля в час И когда мне предложили Таганку после этого «Доброго…», то я так с улыбкой говорил: «Да ведь в общем-то вы мне предлагаете триста рублей, а я шутя зарабатываю и в кино, и на телевидении, и на радио рублей шестьсот, а вы так говорите: вот вам зарплата будет триста рублей», - сразу я в конфликт вошел с начальством. Я же им представил тринадцать пунктов перестройки старого театра.
Москва - удивительный город - там все все узнают по слухам. Разнесся слух, что готовится какой-то интересный спектакль. А так как всем скучно, и дипломатам тоже, раз что-то интересное, значит, будет скандал. Как говорил покойный мой друг Эрдман, что «если вокруг театра нет скандала, то это не театр». Значит, в этом смысле он был пророком в отношении меня. Так и было. Ну и скучно, и все хотят приехать, посмотреть, и знают, что если это интересно, то это закроют. Поэтому спектакль долго не могли начать, публика ворвалась в зал. Эти дипломаты сели на пол в проходе, вбежал пожарник, бледный директор, ректор училища, сказал, что»он не разрешит, потому что зал может обвалиться. В зале, где мест на двести сорок человек, сидит около четырехсот - в общем, был полный скандал. Я стоял с фонарем - там очень плохая была электрика, и я сам стоял и водил фонарем. В нужных местах высвечивал портрет Брехта. И я этим фонарем все водил и кричал:
Ради Бога, дайте продолжить спектакль, что вы делаете, ведь закроют спектакль, никто его не увидит! Чего вы топаете, неужели вы не понимаете, где вы живете, идиоты!
И все-таки я их утихомирил. Но, конечно, все записали и донесли. Ну, и закрыли после этого.
Они спасали честь мундира. Кончилось это плачевно, потому что пришел ректор Захава и стал исправлять спектакль. Студенты его не слушали. Тогда он вызвал меня. У меня было там условное дерево из планок. Он сказал:
С таким деревом спектакль не пойдет, Если вы не сделаете дерево более реалистичным, я допустить это не могу.
Я говорю:
Я прошу мне подсказать, как это сделать. Он говорит:
Ну, хотя бы вот эти планки, ствол заклейте картонкой. Денег у нас нет, я понимаю. Нарисуйте кору дерева.
А можно я пущу по стволу муравьев?
Он взбесился и говорит:
Уйдите из моего кабинета.
Так я и воевал. Но молодые студенты меня все-таки слушались. Ну, ходили некоторые на меня жаловаться, на кафедру, что я разрушаю традиции русского реализма и так далее, и так далее.
Мне было это интересно, потому что я ставил для себя все время новые задачи. Мне казалось, что иногда Брехт чересчур назидателен и скучен. Предположим, сцена фаб?рики мной поставлена почти что паптомимически. Там минимум текста. А у Брехта это огромная текстовая сцена. Я немножко перемонтировал пьесу, сильно сократил. Сделал один зонг на текст Цветаевой, любовные ее стихи:
Вчера еще в глаза глядел,
Равнял с китайскою державою,
В раз обе рученьки разжал,
Жизнь выпала копейкой ржавою…
А остальные были все брехтовские, хотя я взял несколько других зонгов, не к этой пьесе.
Декораций почти что не было, они потом остались те же, я взял их из училища в театр, когда образовалась Таганка. Там были два стола, за которыми учились студенты, - из аудитории - денег нe было, декорации делали мы сами: я вместе со студентами.
Но был все-таки портрет Брехта справа - очень удачно художник Борис Бланк нарисовал. И сам он похож очень на Брехта - прямо как будто они близнецы с Брехтом. Потом, когда портрет стал старым, он пытался несколько раз переписать его, но все время выходило плохо. И мы все время сохраняли этот портрет: его зашивали, штопали, подкрашивали. И так он жил все 30 лет. Все новые, которые Бланк пытался делать, не получались - судьба.
Я занимался очень много пластикой, ритмом, а студентам казалось, что это идет в ущерб психологической школе Станиславского. К сожалению, система Станиславского в школьных программах очень сужалась, он сам был гораздо шире, и сведение системы только к психологической школе очень обедняет ремесло, снижает уровень мастерства.
Открывая для себя драматургию Брехта, я искал и новые приемы работы со студентами - я поставил дипломный спектакль на третьем курсе, чтоб они могли еще целый год встречаться со зрителем и играть. И они фактически весь этот год учились разговаривать с публикой. Потому что Брехт без диалога со зрителем, по-моему, не возможен. Это, в общем, помогло во многом развитию всего театра, потому что тогда это были новые приемы для школы и для студентов.
Новая форма пластики, умение вести диалог со зрительным залом, умение выходить к зрителю… Полное отсутствие четвертой стены. Но тут ничего особенно нового. Теперь каждый по-своему понимает знаменитый брехтовский эффект отчуждения. О нем целые тома написаны. Когда ты как бы со стороны… Вне характера.
У Дидро в «Парадоксе об актере» в каком-то смысле та же идея, но только у Брехта она еще оснащена очень сильно политической окраской, позицией художника в обществе. «Парадокс об актере» сводится к двойственному, что ли, пребыванию, двойственным ощущениям актера, его раздвоенности на сцене. А у Брехта еще есть момент, когда ему очень важна позиция актера вне образа, как гражданина, его отношение к действительности, к миру. И он находит возможным, чтоб актер в это время как бы выходил из образа и оставлял его в стороне.
Господи, как только начнешь вспоминать, так сразу идет целая цепь ассоциаций. С книгой «Парадокс об актере» умер Борис Васильич Щукин - мой учитель. Когда сын утром вошел к нему, он лежал мертвый с открытой книгой Дидро. Еще мне в связи с этим вспомнилась книга, которую я читал молодым человеком: «Актриса» - братьев Гонкур. Там есть очень хорошее наблюдение: когда она стоит перед умершим близким, любимым ею человеком, она испытывает глубокое горе, и в то же время она ловит себя на страшной мысли: «Запоминай, вот как на сцене надо играть такие вещи». Это очень интересное наблюдение. Я начинал учиться на актера и потом сам часто ловил себя на подобном же.
Работая со студентами, я всегда много показывал, всегда искал выразительность мизансценическую. И разрабатывал точно рисунок и психологический, и внешний. Очень следил за выразительностыо тела. И все время учил их не бояться идти от внешнего к внутреннему. И часто верная мизансцена им потом давала верную внутреннюю жизнь. Хотя, конечно, тенденция у них была сделать наоборот: идти от внутреннего к внешнему? Это главная заповедь школы: почувствовать, ощутить внутри жизнь человеческого духа. Но и я считаю, что главное - это жизнь человеческого духа, только надо найти форму театральную, чтоб эта жизнь человеческого духа могла свободно проявляться и иметь безукоризненную форму выражения. А иначе это актера превращает в дилетанта. Он не может выразить свои чувства, у него не хватает средств: ни дикции, ни голоса, ни пластики, ни ощущения себя в пространстве. Я считаю, что и сейчас очень плохо учат актера понимать замысел режиссера. Все основные конфликты между актером и режиссером происходят оттого, что актера мало интересует весь замысел. Но и режиссер обязан сделать общую экспликацию своего замысла. И мы знаем блестящие экспликации Мейерхольда, Станиславского, Вахтангова.
Может, я дохожу до парадокса, но я считаю, что любой знаменитый спектакль в истории театра можно очень точно описать, как он сделан, как решен: светово, сценографически, пластически. Я могу вам рассказать какие-то спектакли, которые произвели на меня сильное впечатление. Я помню все мизансцены, я помню трактовку ролей, пластику того же Оливье в «Отелло». Так же как мы все помним пластику Чаплина, его тросточку, котелок, походку.
Были конкурсы Чаплина, где сам Чаплин занял восьмое место.
То есть я люблю такой театр. И поэтому я и дохожу, что ли, до предела, когда говорю, что я не вижу особенной разницы в работе балетмейстера и в работе режиссера. Только хореографа хорошего слушают, а драматические артисты без конца дискуссии ведут с режиссером. Это, что ли,
модно, - не понимаю. Они беспрекословно отдают себя в руки в телевидении, на радио, в кинематографе. Но вот где они могут, наконец, отвести душу, спорить, дискуссировать, все время говорить о коллективном творчестве и так далее - это в театре. Значит, берут реванш. Это как в замечательном фильме «Репетиция оркестра» Феллини, все время идет борьба между дирижером и оркестром. Оркестр все время провоцирует дирижера, испытывает его крепость, а дирижер ищет и старается поставить на место оркестр, испытывая уровень оркестра. Это такой взаимный экзамен друг друга. Так и происходит при встрече актера и режиссера всегда - такой идет happening, игра. Но до определенного предела. Потому что кто-то должен взять палочку дирижера и начать дирижировать.
«Добрый человек…» имел резонанс огромный. И потянулись все. Приходили поэты, писатели. Мы же умудрились сыграть «Доброго человека…», несмотря на запрет кафедры, и в Доме кино, в Доме писателей, у физиков в Дубне. В Театре Вахтангова пять раз сыграли. Нам разрешили, потому что спектакль шел с таким успехом, к тому же мой однокашник и старый друг по училищу; даже еще по Второму МХАТу, Исай Спектор был коммерческий директор театра, практичный человек, а Театр Вахтангова в это время был на гастролях. И там сломали двери. А меня послали играть спектакль выездной, хотя в нем был и другой исполнитель. И я не видел, как прошли эти спектакли на Вахтанговской сцене. Я пришел на последний, по-моему. И только потом мне передали, что был Микоян и сказал фразу: «О! Это не учебный спектакль, это не студенческий спектакль. Это будет театр, и весьма своеобразный». Так что вот видите, член Политбюро разобрался.
В первый раз в жизни я очень точно сформулировал Управлению культуры свои тринадцать пунктов, что мне необходимо для того, чтобы был создан театр. Я понимал, что меня старый театр перемелет, обратит меня в фарш - ничего не останется. Я погрязну в дрязгах старой труппы. Я понимал, что все надо делать сначала, начинать с нуля. И поэтому я дал им эти пункты, И они долго размышляли, утвердить меня или не утвердить.
Я привел с собой студентов с этого курса… Даже двух доносчиков, которые писали про меня, что я разрушаю систему Станиславского. И не потому, что я такой благородный. Мне просто не хотелось снова вводить двух артистов и терять время. Студенты были весьма разные. Это не была идиллия, что репетируют в упоении педагог и хорошие студенты.
Как я ставил «Доброго человека…»? - Я буквально вколачивал костылем ритм, потому что я порвал себе связки на ноге, и не мог бегать показывать, и я с костылем работал. Было очень нелегко добиться понимания формы. Студенты чувствовали, что что-то не так, то есть их не так учили, как я с ними работал.
Получив разрешение взять «Доброго человека…» и десять человек с курса в театр, я понял, что мне нужно. Я снял весь старый репертуар, оставил только Пристли одну пьесу, потому что она более-менее делала сборы, хотя спектакль мне не нравился.
Мы не могли каждый день играть «Доброго человека…», хотя он делал аншлаги. И поэтому я сразу запустил две работы - сначала неудачную «Герой нашего времени», потом понял, что он мне не помогает, - и сразу запустил «Антимиры» и «Десять дней…».
Я тогда увлекался Андреем Вознесенским, его стихами и стал делать «Антимиры» как поэтический спектакль, который потом шел очень долго. И тогда меня порадовала публика Москвы. Во-первых, мне многие говорили, что не придет зритель на Таганку, - он пришел. Он пришел на «Доброго…», он пришел на «Павших. ..», он пришел на «Десять дней…», он пришел на «Антимиры». И таким образом я выиграл время. Советское начальство всегда дает год хотя бы… раз они назначили, они оставляли в покое на год. Просто у них были такие ритмы жизни, что пару лет пусть работает, а там посмотрим. А я как-то быстро обернулся очень. В год я миновал пороги и получил репертуар: «Добрый…», «Десять дней…», «Антимиры», после длительной борьбы «Павшие. ..» остались в репертуаре - уже четыре спектакля, И на
них я мог опереться. Правда, я не думал, что так быстро меня начнут прорабатывать. Уже «Десять дней…» начальство приняло так… хоть и революция, пятое-десятое, но с неудовольствием. Но они все-таки были отброшены успехом - вроде революционная тема и такой успех. Ну, и пресса… «Правда» пожурила, но, в общем, одобрила. А уж потом-то они стали, ругая «Мастера», говорить: «Как мог человек, который поставил „Десять дней… “ - и так у меня все время было, - как мог этот человек, который поставил вот то-то, поставить это безобразие?» - «Дом…», предположим, или Маяковского и так далее.
Р. S. Вот видишь, сын мой, папе те правители все-таки дали год на раскрутку, а царь Борис своих премьеров в один год раза четыре меняет!
Без даты.
Когда все было готово и можно было назначить премьеру, как-то так совпало, что день рождения Ленина, а следующий - день рождения Шекспира, наш день … И стал я провозглашать, что только благодаря ХХ съезду такой театр мог появиться. А до ХХ съезда - нет. А когда стали забывать ХХ съезд, то я очутился без спасательного круга и стал тонуть.
Но до конца не утонул. И я согласен с тем, как это объяснил Петр Леонидович Капица: «Я очень волновался за вашу судьбу, Юрий Петрович, - до тех пор, пока не понял, что вы - Кузькин. А когда я понял, что вы все-таки Кузькин в какой-то мере, то перестал волноваться».
У них была золотая свадьба, и была такая очень элитарная публика, ученые, академики, и все говорили, что-то такое торжественное - золотая свадьба, восседала Анна Алексеевна с Петром Леонидовичем, и я принес золотую афишу «Мастер и Маргарита» - там же по главам сделана афиша, и я к каждой главе дал комментарий про Петра Леонидовича.
Мне тоже нужно было какой-то спич произносить, и я сказал, что неудивительно, что я Кузькин, а вот что Петр Леонидович должен быть Кузькиным в этой стране, чтобы выжить, это удивительно. Анна Алексеевна очень обиделась:
Как вы можете, Юрий Петрович, называть Петра Леонидовича Кузькиным?
И вдруг Петр Леонидович встал и говорит:
Молчи, крысик (Он вceгдa ее так называл.) Да, Юрий Петрович, вы правы, я тоже Кузькин.
P. S. Кузькин - герой прекрасной повести Б. Можаева, что-то вроде швейка на русский манер.
Брехт Бертольд
Добрый человек из Сычуани
Бертольд Брехт
Добрый человек из Сычуани
Пьеса-парабола
В сотрудничестве с Р. Берлау и М. Штеффин
Перевод Е. Ионовой и Ю. Юзовского
Стихи в переводе Бориса Слуцкого
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Ван - водонос.
Три бога.
Ян Сун - безработный летчик.
Госпожа Ян - его мать.
Вдова Шин.
Семья из восьми человек.
Столяр Лин То.
Домовладелица Ми Дзю.
Полицейский.
Торговец коврами.
Его жена.
Старая проститутка.
Цирюльник Шу Фу.
Официант.
Безработный.
Прохожие в прологе.
Место действия: полуевропеизированная столица Сычуани.
Провинция Сычуань, в которой были обобщены все места на земном шаре, где
человек эксплуатирует человека, ныне к таким местам не принадлежит.
Улица в главном городе Сычуани. Вечер. Водонос Ван представляется публике.
Ван. Я здешний водонос - торгую водой в столице Сычуани. Тяжелое ремесло! Если воды мало, приходится далеко ходить за ней. А если ее много, заработок мал. И вообще в нашей провинции большая нищета. Все говорят, что если кто еще способен нам помочь, так это боги. И вот представьте себе мою радость, когда знакомый торговец скотом - он много разъезжает - сказал мне, что несколько виднейших наших богов уже находятся в пути и их можно ожидать в Сычуани с часу на час. Говорят, небо сильно обеспокоено множеством жалоб, которые к нему поступают. Уже третий день, как я дожидаюсь здесь у городских ворот, особенно под вечер, чтобы первым приветствовать гостей. Позднее вряд ли это мне удастся. Их окружат высокопоставленные господа, попробуй к ним тогда пробиться. Как бы их только узнать? Они появятся, наверно, не вместе. Скорее всего по одному, чтобы не слишком обращать на себя внимание. Вот эти не похожи на богов, они возвращаются с работы. (Внимательно смотрит на проходящих мимо рабочих.) Плечи у них согнулись от тяжестей, которые они таскают. А этот? Какой же он бог - пальцы в чернилах. Самое большее служащий цементного завода. Даже те два господина...
Мимо проходят двое мужчин.
И те, по-моему, - не боги. У них жестокое выражение лица, как у людей, привыкших бить, а богам нет в этом необходимости. А вот там трое! Как будто - другое дело. Упитанны, ни малейшего признака какого-либо занятия, башмаки в пыли, значит, пришли издалека. Они - они! О мудрейшие, располагайте мной! (Падает ниц.)
Первый бог (радостно). Нас здесь ждут?
Ван (дает им напиться). Уже давно. Но только я один знал о вашем прибытии.
Первый бог. Мы нуждаемся в ночлеге. Не знаешь ли ты, где бы нам пристроиться?
Ван. Где? Везде! Весь город в вашем распоряжении, о мудрейшие! Где пожелаете?
Боги многозначительно смотрят друг на друга.
Первый бог. Хотя бы в ближайшем доме, сын мой! Попытаемся в самом ближайшем!
Ван. Меня только смущает, что я навлеку на себя гнев власть имущих, если отдам особое предпочтение одному из них.
Первый бог. Потому-то мы и приказываем тебе: начни с ближайшего!
Ван. Там живет господин Фо! Подождите минутку. (Подбегает к дому и стучит в дверь.)
Дверь открывается, но видно, что Ван получает отказ.
(Робко возвращается.) Вот неудача! Господина Фо, как назло, нет дома, а слуги ни на что не решаются без его приказания, хозяин очень строг! Ну и взбесится же он, когда узнает, кого не приняли в его доме, неправда ли?
Боги (улыбаясь). Безусловно.
Ван. Еще минуту! Дом рядом принадлежит вдове Су. Она будет вне себя от радости. (Бежит к дому, но, видимо, снова получает отказ.) Я лучше справлюсь напротив. Вдова говорит, что у нее только одна маленькая комнатка, и та не в порядке. Сейчас же обращусь к господину Чену.
Второй бог. Нам хватит маленькой комнатки. Скажи, что мы ее займем.
Ван. Даже если она не прибрана, даже если в ней полно пауков?
Второй бог. Пустяки! Где пауки, там мало мух.
Третий бог (приветливо, Вану). Иди к господину Чену или еще куда-нибудь, сын мой, пауки, признаться, мне не по душе.
Ван снова стучится в какую-то дверь, и его впускают.
Ван (возвращаясь к богам). Господин Чен в отчаянии, его дом полон родни, и он не осмеливается показаться вам на глаза, мудрейшие. Между нами, я думаю, среди них есть дурные люди, и он не хочет, чтоб вы их видели. Он страшится вашего гнева. В этом все дело.
Третий бог. Разве мы так страшны?
Ван. Только для недобрых людей, не правда ли? Известно же, что жителей провинции Кван десятилетиями постигает наводнение - кара божья!
Второй бог. Вот как? И почему же?
Ван. Да потому, что все они безбожники.
Второй бог. Вздор! Просто потому, что они не чинили плотину.
Первый бог. Тсс! (Вану). Ты все еще надеешься, сын мой?
Ван. Как можно даже спрашивать такое? Стоит пройти еще один дом, и я найду для вас жилье. Каждый пальчики себе облизывает в предвидении, что примет вас у себя. Неудачное стечение обстоятельств, понимаете? Бегу! (Медленно отходит и нерешительно останавливается посреди улицы.)
Второй бог. Что я говорил?
Третий бог. И все-таки, думаю, это простая случайность.
Второй бог. Случайность в Шуне, случайность в Кване и случайность в Сычуани. Страха божьего нет больше на земле - вот истина, которой вы боитесь смотреть в лицо. Признайте, что наша миссия потерпела фиаско!
Первый бог. Мы еще можем натолкнуться на доброго человека. В любую минуту. Мы не должны сразу отступаться.
Третий бог. Постановление гласило: мир может оставаться таким, как он есть, если найдется достаточно людей, достойных звания человека. Водонос сам такой человек, если только я не обманываюсь. (Подходит к Вану, который все еще сюит в нерешительности.)
Второй бог. Он обманывается. Когда водонос дал нам напиться из своей кружки, я кое-что заметил. Вот кружка. (Показывает ее первому богу.)
Первый бог. Двойное дно.
Второй бог. Мошенник!
Первый бог. Ладно, он отпадает. Ну и что ж такого, если один с гнильцой? Мы встретим и таких, которые способны жить достойной человека жизнью. Мы обязаны найти! Вот уже два тысячелетия не прекращается вопль, так дальше продолжаться не может! Никто в этом мире не в состоянии быть добрым! Мы должны наконец указать на людей, которые могут следовать нашим заповедям.
Третий бог (Вану). Может быть, это очень затруднительно - найти пристанище?
Ван. Только не для вас! Помилуйте! Моя вина, что оно не сразу нашлось, - я плохо ищу.
Третий бог. Дело, безусловно, не в этом. (Возвращается обратно.)
Ван. Они уже догадываются. (К прохожему.) Высокочтимый господин, извините, что обращаюсь к вам, но три самых главных бога, о предстоящем прибытии которых в течение многих лет говорит весь Сычуань, теперь в самом деле прибыли и нуждаются в жилье. Не уходите! Убедитесь сами! Довольно одного взгляда! Ради бога, выручайте! На вашу долю выпал счастливый случай воспользуйтесь им! Предложите убежище богам, пока кто-нибудь не перехватил их, - они согласятся.
«Добрый человек из Сычуани» (вариант перевода: «Добрый человек из Сезуана» , нем. Der gute Mensch von Sezuan ) - пьеса-парабола Бертольта Брехта , законченная в 1941 году в Финляндии , одно из самых ярких воплощений его теории эпического театра .
История создания
Замысел пьесы, первоначально называвшейся «Товар любовь» («Die Ware Liebe»), относится к 1930 году; набросок, к которому Брехт вернулся в начале 1939 года в Дании , содержал пять сцен. В мае того же года, уже в шведском Лидинге, был закончен первый вариант пьесы; однако два месяца спустя началась её коренная переработка. 11 июня 1940 года Брехт записал в своём дневнике: «В который раз я вместе с Гретой - слово за словом - пересматриваю текст „Доброго человека из Сычуана“», - лишь в апреле 1941 года, уже находясь в Финляндии, он констатировал, что пьеса закончена . Задуманная первоначально как бытовая драма, пьеса в конце концов приняла форму драматической легенды .
Первую постановку «Доброго человека из Сычуани» осуществил Леонгард Штеккель в Цюрихе , - премьера состоялась 4 февраля 1943 года . На родине драматурга, в Германии, пьеса впервые была поставлена в в 1952 году - Гарри Буквицей во Франкфурте-на-Майне .
На русском языке «Добрый человек из Сычуани» был впервые опубликован в 1957 году в журнале «Иностранная литература » в переводе Е. Ионовой и Ю. Юзовского , стихи перевёл Борис Слуцкий .
Действующие лица
Ван - водонос
Три бога
Шен Те
Шуи Та
Янг Сун - безработный летчик
Госпожа Янг - его мать
Вдова Шин
Семья из восьми человек
Столяр Лин То
Домовладелица Ми Дзю
Полицейский
Торговец коврами
Его жена
Старая проститутка
Цирюльник Шу Фу
Бонза
Официант
Безработный
Прохожие в прологе
Сюжет
Боги, спустившиеся на землю, безуспешно ищут доброго человека. В главном городе провинции Сычуань с помощью водоноса Вана они пытаются найти ночлег, но всюду получают отказ, - только проститутка Шен Те соглашается приютить их.
Чтобы девушке легче было оставаться доброй, боги, покидая дом Шен Те, дают ей немного денег, - на эти деньги она покупает маленькую табачную лавку.
Но люди бесцеремонно пользуются добротой Шен Те: чем больше она делает добра, тем больше неприятностей на себя навлекает. Дела идут из рук вон плохо, - чтобы спасти свою лавку от разорения, Шен Те, не умеющая говорить «нет», переодевается в мужскую одежду и представляется своим двоюродным братом - господином Шуи Та, жёстким и несентиментальным. Он не добр, отказывает всем, кто обращается к нему за помощью, но, в отличие от Шен Те, дела у «брата» идут хорошо.
Вынужденная чёрствость тяготит Шен Те, - поправив дела, она «возвращается», и знакомится с безработным лётчиком Янг Суном, который с отчаяния готов повеситься. Шен Те спасает лётчика от петли и влюбляется в него; окрылённая любовью, она, как и прежде, никому не отказывает в помощи. Однако и Янг Сун пользуется её добротой как слабостью. Ему нужно пятьсот серебряных долларов, чтобы получить в Пекине место лётчика, такие деньги невозможно выручить даже от продажи лавки, и Шен Те, чтобы накопить нужную сумму, вновь превращается в жестокосердного Шуи Та. Янг Сун в разговоре с «братом» презрительно отзывается о Шен Те, которую, как выясняется, он не намерен брать с собой в Пекин, - и Шуи Та отказывается продать лавку, как того требует лётчик.
Разочаровавшись в любимом, Шен Те решает выйти замуж за богатого горожанина Шу Фу, готового ей в угоду заняться благотворительностью, но, сняв костюм Шуи Та, она утрачивает способность отказывать, - и Янг Сун легко убеждает девушку стать его женой.
Однако перед самым бракосочетанием Янг Сун узнаёт, что Шен Те не может продать лавку: она частично заложена за 200 долларов, давно отданных лётчику. Янг Сун рассчитывает на помощь Шуи Та, посылает за ним и в ожидании "брата" откладывает бракосочетание. Шуи Та не приходит, и гости, приглашённые на свадьбу, выпив всё вино, расходятся.
Шен Те, чтобы выплатить долг, приходится продать лавку, которая служила ей и домом, - ни мужа, ни лавки, ни крова. И вновь появляется Шуи Та: приняв от Шу Фу материальную помощь, от которой Шен Те отказалась, он заставляет многочисленных нахлебников работать на Шен Те и в конце концов открывает небольшую табачную фабрику. На эту быстро расцветающую фабрику в конце концов устраивается и Янг Сун и, как человек образованный, быстро делает карьеру.
Проходит полгода, отсутствие Шен Те тревожит и соседей, и господина Шу Фу; Янг Сун пытается шантажировать Шуи Та, чтобы завладеть фабрикой, и, не добившись своего, приводит в дом Шуи Та полицию. Обнаружив в доме одежду Шен Те, полицейский обвиняет Шуи Та в убийстве кузины. Судить его берутся боги. Шен Те открывает богам свою тайну, просит подсказать, как ей жить дальше, но боги, довольные тем, что нашли своего доброго человека, не дав ответа, улетают на розовом облаке.
Легендарный спектакль, с которого началась история Театра на Таганке, и который положил начало фирменному таганскому стилю: прямое обращение к залу, условность действия, отстраненность от образа, «живая» музыка и зонги - короткие ритмичные песни, которым хочется подпевать.
Сюжет спектакля передаётся несколькими словами. Спустившиеся на землю боги ищут хотя бы одного доброго человека. Но, как выясняется, даже в душе доброго человека существует зло и периодически одерживает верх. Эти глубокие и серьезные мысли поданы в легкой, изящной, порой сатирической форме.
Основой для сюжета пьесы Бертольта Брехта послужила двойственность нашего материального мира: добрые порывы обращаются в жестокие поступки, желание творить добро причиняет боль, «гнев судьбы», по выражению Т.Манна, становится «дальновидной добротой». Да, боги преподносят Шен Те подарок, но за него добрый человек должен расплачиваться осознанием правды о мироустройстве и душевными страданиями, необходимостью быть жесткой и порой жестокой, чтобы выжить и дать возможность жить другим. Шен Те - порождение мира двойственности, для неё нет иного пути, как жить по его законам, ей не хватает сил нарушить правила игры. Вот откуда иронично-снисходительное отношение к ней богов, вот откуда их требование «регламента» для появления «теневой» ипостаси Шен Те - двоюродного брата Шуи Та.
Какой же вывод должен извлечь зритель из притчевой пьесы Брехта? Мир двойственен и, следовательно, жестокость нужно принять как данность? Человеку остаётся страдание и пессимизм? Нет. Бертольт Брехт, Юрий Любимов и актёры Театра на Таганке предлагают задуматься и понять, что только разум и жесткий контроль проявлений своего «теневого», жестокого начала поможет сохранить равновесие между добром и злом. Разум и интеллект - единственное оружие человека в мире двойственности. В этом призыв богов и декларация автора.
Пьеса-притча о необходимости утверждения добра силой разума будет современна и своевременна, пока существует материальный мир. Вот почему почти 50 лет не сходит со сцены спектакль, объединивший театр мысли Б. Брехта и театр формы Ю. Любимова, ставший визитной карточкой Театра на Таганке.
Режиссер - Юрий Любимов
Музыка - Борис Хмельницкий, Анатолий Васильев
В спектакле заняты артисты:
Мария Матвеева, Алексей Граббе, Анатолий Васильев, Галина Трифонова, Иван Рыжиков, Лариса Маслова, Дмитрий Высоцкий, Владислав Маленко, Тимур Бадалбейли, Анастасия Колпикова, Татьяна Сидоренко, Феликс Антипов, Полина Нечитайло, Сергей Трифонов, Юлия Куварзина и другие.
Продолжительность спектакля - 2 часа 45 минут.